СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ |
№16 Чингиз ГУСЕЙНОВ (Россия, Переделкино) Минувшее - навстречу. Мемуарное повествование (отрывки)
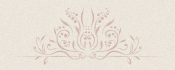 | ||||
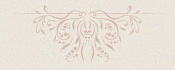 | ||||
| На главную |
Рассказать о прожитом… – уже было, когда, не придумав названия, перефразировал пушкинскую строку, заменив в ней суровую прозу на воспоминанья, и родилось: Лета к воспоминаньям клонят. Память – часть нашего бытия, культуры, а вот как сохранить мне, который сам потомок, и передать идущим вослед… – всегда хочется, чтобы не только близкие тебя знали, но и вспоминали даже те, кто ещё явится в мир. Кто-то усмотрит в этом проявление тщеславия, оно, верно, на своём месте, и отрадно сознавать, что будущее – это убеждение неистребимо – восстановит справедливость, хотя у него своих забот будет не счесть. Одни спорят с прошлым, де, недооценены, часто – поделом, другие утешаются, что право поведать истину, не обойдя острые углы, принадлежит им. А кто не откажется приукрасить, играя на незнании легковерной публики. Эти причины не чужды и мне. Но понимаю более разумом, нежели чувствами, часто обманчивыми, что подошёл к некоей вехе, обозначилось начало конца, вот-вот может наступить, скорее, чем предполагаешь, – в любое сегодня. Обозначился рубеж между реальным нынешним – вот данность, кажется, незыблемость будет всегда – и неизбежным небытием. Вроде ты есть и тебя нет, пережитое тобой может исчезнуть – так не пора ли оставить след, рассказав о людях, чьё время ушло и никто, кроме тебя, о них не расскажет? И сразу вопрос: а для кого, зачем? Лёгкий ответ: ни к чему иному не приучен + привычка многолетняя к письменному столу, вот и мечешься между для кого? и надо! Как соединить время и пространство: последовательно? вперебивку? сумбурно в надежде, что хаос выстроит порядок? как с сюжетом? композицией? В подаче материала суметь избежать калейдоскопичность (метод арабесок). Этичнее, когда образ автора элиминирован – вынесен за черту во имя условной объективности, усиления автоиронии. Не утрачивая господствующие высоты, глядеть не сверху вниз (часто нарушаемая заповедь), а снизу вверх. Каждый хочет быть услышанным, среди них есть позитивные, даже кумирные, но и деструктивные – лучше без них. Опасна дидактичность – сродни занудству, ведь каждый живёт своим умом. Быть рефлективно-аналитичным по стилю, несентиментальным, сохраняя при этом поэтичность – без слёз. Как ни старайся, а оглядка остаётся: политическая и житейская. Ненароком кого обидеть проще простого: Такой я в твоих глазах? Не назвал по дырявости памяти: Так ничтожно мало обо мне?! Похвала в ином контексте – не похвала, а нечто другое. Сквозь каждую буковку-запятую видно отношение: лексика и синтаксис приборы сверхчуткие. Случайное – не всегда закономерное, а откровенность имеет границы дозволенности, определяемые… но чем? выработанным годами всепрощением? доброжелательством? думами о потомках тех, кого высветил взгляд? Главное – намерение, настрой, а реализация – это вторичное, но без неё не проступят намерения. Уходы вперёд, возвраты… – современностью, и сиюдневной тоже, прерывается порой изложение прошлого, это и память додневниковая, точно ледниковая, и запечатлённая в записях более или менее регулярных, всего лишь фиксация дел, начиная с перевёртышного 1961-го, как ни крути, а один и тот же год. Но истинно заметили мудрецы: время – за нами, время – перед нами, а при нас, в сей день, времени как будто нет, лишь видимое движение часовых стрелок – просто техника, никакой философии. Воспоминания произрастают из трёх условных концепций: Божественной. Человек создан по образу и подобию Бога, и всё, о чём рассказывается, должно иметь некий здравый посыл, душа вечна, надо жить честно, по-справедливости, множа добро; Сатанинской. Пиши или не пиши, а мир, напичканный страхами и кровью, не переделать, мафии, кланы, кто кого перехитрит, всё вращается вокруг денег, наркотиков, оружия, секса, и впредь так будет всегда (продал душу дьяволу?); Космологической. Человек песчинка в мироздании, жизнь абсурдна и никчемна, пыль, прах, всё подвержено уничтожению. Так для кого и с какой целью сегодня пишется? Если руководствоваться концепцией первой – другим в назидание; если второй – тоже для других, видимо, позабавить; третьей если – только для себя, ибо неистребима потребность воссоздать и сохранить время в живых лицах, вернуть из небытия дорогие имена. И всё, о чём пишется, представляется в трёх порознь и в синтезе стилях: реалистическо-достоверном, детективно-занимательном, абсурдно-мистическом. По одной средневековой рукописи огузов, ну вот, пошло катиться сочинительство, жизнь человека состоит из двенадцати периодов: первый – дух, витающий на крыльях любви, коль скоро явился в мир, но тут один лишь преднулевой минус: день? месяц? год? век?.. второй – утробный, включается в возраст, простая арифметика; третий – младенчество, куда можно проникнуть через сны; четвёртый – детство, из которого никак не уйдёшь; пятый – отрочество: чем горше, тем слаще потом; шестой – юность… тут, что ни скажешь, будет мало; седьмой – молодость, и вдруг тебе открылось, что ты, мнящий себя бессмертным, - смертен; восьмой – первая зрелость, и ты уже познал боль утрат; девятый – вторая зрелость (годы старости?); десятый – третья зрелость; одиннадцатый – младенчество старости; двенадцатый – возвращение в утробу земли. Конструкция идеально-модельная, плакатная, когда лицо – никакое, ибо в каждой зрелости может существовать детство, а юность и отрочество быть мудрыми. Это – ориентир композиционный, чтобы не заблудиться, и каждое время просматривается через сегодня. И помнить, что умершие – живы, хоть об этом не ведают, как и живые – вечны, ибо, умерев, не знают, что умерли, такая вот неразгаданная до сей поры эквилибристика. А вообще-то лишь только кажется, что ушедшие – ушли: правой рукой с ними грустно прощаешься, а левой радостно приветствуешь; но руками лучше не очень-то махать, коль скоро плаваешь в волнах не только реального, но и условного, даже абсурдно-мистического, когда обе руки задействованы. Те, кто здесь названы, – названы не случайно, но лишь случайностью объясняется, что не названы многие, так что не обижайтесь, други-приятели. То же и в отношении эпизодов, событий. Короче – из прожитого и пережитого сказано тут как будто немало, но несказанного неизмеримо больше, и ощущение – оно не мной открыто, – что самое важное, самое существенное осталось за чертой повествования, хотел я того или нет.
Часть первая:
Витающий дух + младенчество + детство +
Мелик Мамед - имя богатыря из сказки:
так звали моего деда по материнской линии. Смотрит горделиво с портрета, точно видит насквозь, оттого неуютно. Густые чёрные брови, такие были у мамы, дочери его, чёрные усы что надо. Родичи были, говорили в семье, корабелами, потом узнал, что шили паруса. И любопытное совпадение: предки Елены, оказывается, плели рыбацкие сети, даже фабрику в Москве имели – не это ли научило нас с нею понимать друг друга с полуслова? Жили Рахмановы в старой части Баку, на Персидской; широкий двор, глухой стеной отгороженный от остального мира, точно крепость, прилепились друг к другу два домика, а крыши, покрытые киром, – плоские и просторные; в летние ночи хорошо там спится, крупные яркие звёзды совсем близко висят над тобой. Служил Мелик-Мамед в пароходстве «Меркурий», был капитаном торгового судна «Наследник» (в советские годы «Цюрупа», в честь революционера и совнаркомовского деятеля), плавал по Куре и Каспию; указом «Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича, Самодержца Всероссийского, и прочая и прочая и прочая», диплом от 18 марта 1905 года, удостоен «по выдержании испытания в науках» звания капитана первого разряда, а впоследствии – «капитанъ дальняго плаванья», запечатлела старая визитка, увидал лишь в начале нового века. Ещё запись: смерть застала деда, сказано в официальной бумаге, «на пристани, тотчас после швартовки судна». Думая увлечь Дину, тогда несмышлёную, рассказом о деде её деда, обыграл а ля революционное его прошлое, придумав заодно бурные пиратские его приключения о том, как он умыкнул дочь турецкого султана, неведомо как из моря Каспийского попав в море Чёрное… - ты с захыватывющим интересом слушала мой рассказ, требуя продолжения, а потом по истечении многих лет я долго не мог убедить тебя в том, что всё это сочинил. А ведь дед вправду дважды выполнял, дабы не сочли трусом, авантюрные поручения Наримана Нариманова, первого большевика Азербайджана (тогда часто писали Азербейджан), взять на борт его книжку «С каким лозунгом мы идем на Кавказ?», отпечатана в советской Астрахани, полна романтической выспренности: На высоких вершинах Кавказских гор водружено будет Красное знамя. Мелик-Мамед тайно переправил в буржуазный Баку и гневную отповедь Наримана бывшему другу Усуббекову, премьеру независимой от большевиков Азербайджанской демреспублики, в Одессе с ним учились, Новороссийском университете, оба – утописты, но Нариман успеет разочароваться в большевизме за месяц до загадочной смерти в Москве в 1925-м, о чём – в покаянном письме-завещании малолетнему сыну Наджафу, а Насиббека, убегающего от красных войск, захвативших Баку 28 апреля 1920 года, убьёт в Тифлисе пуля армянского террориста, и на долгие десятилетия конец демократическим иллюзиям. Дела и помыслы бывших друзей пахли кровью. Близок грозный час, – стращал Нариман, – когда предстанете перед судом рабочих и крестьян! Письмо в почту вложил юный племянник Мелик-Мамеда Гусейн, курьер в мининделе Демреспублики, по советской историографии – мусаватистской власти помещиков и беков, проживёт без месяца два года до той поры… - 11 Красная армия вторгнется в Баку, дабы народ восставший не обидеть, и установит тут ту самую власть рабочих и крестьян, а Гусейн станет, такие были задумки у фортуны, одним из вождей советского Азербайджана. Тем временем красные войска двинулись в Армению, оттуда – в Грузию, навстречу пожеланиям восставших трудящихся, неся на штыках счастье Кавказу. Рахмановых было три брата и две сестры, жили одной большой семьёй в отцовском доме, узнал лишь недавно точный адрес: Персидская улица 44; дом постоянно достраивался по мере роста семьи, существует поныне (не понимаю, как я мог не пойти глянуть на него хотя бы извне?). У старшего брата Али-Паши (паша по-турецки с ударением на последнем слоге – высший воинский чин) рождались только мальчики, плеяда больших советских чинов, у среднего Мелик-Мамеда – девочки, и так появилась на свет моя мать Махфират. Далее по годам шли сестры: бездетная Хадиджа, названная в честь первой жены пророка Мухаммеда, и Сакина, у которой было три сына и две дочери, а у них, в свою очередь, дюжина детей и внуков. Дочь принадлежит чужому дому, так принято у нас считать, ибо, выйдя замуж, покидает отцовский дом, прилепляется к мужу. Младшему брату Али-Ага до женитьбы было далеко: разница между старшим и младшим – более двадцати лет. У меня – копия брачного свидетельства-кябина деда и бабушки Наргиз, означает нарцисс: арабская вязь, сбоку перевод на русский, фиолетовые чернила поблекли, исполнен нотариусом, красным подчёркнуты имена жениха и невесты: Жених бакинец Мелик Мамед Гаджи Гаджибаба оглы, 35 лет. Поверенный его – отец названного. Невеста бакинская жительница Наргиз Ханума Мешади Али-Акпер кызы, поверенный ея бакинец Гаджи Агабаба Зейнал оглы. Кябинная сумма сто восемьдесят пять червонец, долг жениха. Кябин вечный. 18 Зигиджа 1319 – 27 Ноября 1911 года отец жениха названный Гаджи Гаджибаба [в семье прадеда моего Гаджи Гаджибаба звали Аджеджбаба] пожизненно ручается, а после смерти ответствует жених. Так как названный Гаджи Гаджибаба неграмотный, по его просьбе расписался Кербелай Мустафа Гаджи Мирага Мамед Касим оглы. Кябин совершил молла мечети «Джами» Ахунд Мамед Ахундзаде. Указано: Перевел Ибрагим Джеваншир, Бакинский Народный нотариус Николаевского района (смесь нового народный и старого: район сохраняет обозначение в честь императора) удостоверяет соответствие вышеизложенного оригиналу. Доход в казну и гербовый взыскан 1921 года Декабря 28 дня по реестру № 7618. В кябинном, брачном свидетельстве обилие сложных имён, от пояснений тут не уклониться. В имени жениха, деда моего Мелик Мамед Гаджи Гаджибаба оглы, первые два имени могут писаться слитно или через дефис как части одного имени; первое Гаджи в имени прадеда – почётный титул, обретённый по совершении паломничества-хаджа в священные Мекку, где родился Мухаммед, и Медину, где похоронен; второе Гаджи входит в состав имени Гаджибаба. В имени невесты, моей бабушки Наргиз Ханума Мешади Али-Акпер кызы, ханума – на манер грузин и армян, у нас ханым; Мешади – титул прадеда, обрёл после посещения города Мешхед в Иране, где похоронен шиитский имам Риза; в имени Али-Акпер первая часть Али имя вождя мусульман-шиитов, а Акпер – Великий. За прадеда расписался Кербелай Мустафа Гаджи Мирага Мамед Касим оглы: Кербелай – титул, обретаемый при паломничестве в город Кербела в Ираке, где похоронен убиенный внук Мухаммеда Гусейн; Мустафа – имя собственное, Мамедкасим – имя отца, который после хаджа стал Гаджи, Мир – приставка, показывающая родство с Мухаммедом, Ага – господин, знак уважения. И я тоже могу к своему имени приписать титулы Кербелай, ибо посетил Кербелу, город в Ираке, где высится размером с Собор Василия Блаженного мавзолей внука Мухаммеда Гусейна: массивные врата из золота, и нескончаем уже сколько веков поток паломников; посетил также Иерусалим, он же – Эль-Кудс, могу носить титул Кудси. Узнать подробности жизни предков не у кого: когда жили очевидцы – не было интереса, да и кто рассказал что-либо юнцу? И что бы я понял? А когда интерес возник, никого в живых. Многоимённость доходила до анекдотичности: в Баку приехал всероссийский староста Калинин вручать ордена, на собрании Председатель ЦИК Азербайджана Агамалиоглу произнёс, приветствуя гостя, крылатую фразу: Вы нам из Урсиета (России) револусия качай-качай, а мы вам нефть качай-качай! (бурные аплодисменты), такой вот взаимообмен: Россия снабжает нас революцией, а мы Россию – нефтью; и, начав вызывать на сцену награждённых, Агамалиоглу произнёс: Али Гусейн Гаджи Мирсалим оглы… – Калинин его перебил: Самедага, не всех сразу, по одному вызывай! Тот ответил: А я одного и вызываю!
Зловещие аббревиатуры
Более сорока лет назад, в пору оттепели, я стал обладателем автобиографий отца из личного его дела, это фотокопии: три – от руки, одна – на машинке, даты 1930, 1932, 1935 и 1939 гг, прислали по моей просьбе (и личным, разумеется, связям) из архива УРКМ, или Управления рабоче-крестьянской милиции, при НКВД Азербайджанской ССР, где отец последние годы работал. Судя по их нумерации, в которой есть пропуски, в деле оставались какие-то материалы, и по моей наводке проявил интерес к ним внук Аликрама Хаял (поэт Давуд Насиб назал сына романтично: Мечта), он поступил, пойдя по стопам прадеда, в милицию, и я ему рассказал о полученных некогда автобиографиях, - Хаял не раз наведывался в архив, но, увы, «дело», видимо, уничтожили. Автобиографии написаны по-русски, есть орфографические и синтаксические ошибки. Последняя – от 25 января 1939 года, чуть более месяца до смерти; волнует каждая запятая, живо представляю, как отец, макая ручку в чернила, строил фразы, выводил в конце замысловатую подпись, помню, как тренировался, оттачивая её, чтоб была заковыристая и не подделать; после отца и Аликрам долго и упорно копировал её, стала его подписью. С чувством гордости в автобиографиях дооттепельной поры (немало их пришлось писать: в школе, при поступлении в комсомол, вузе, аспирантуре, когда принимали на работу…) отмечал, что отец (в скобках 1901, год рождения, как запечатлено на могильной плите, на самом деле 1897, и 1939, год смерти) служил в Управлении рабочее-крестьянской милиции, аббревиатура УРКМ, и добавлял в конце: при НКВД Азербайджанской ССР. Это щит – прикрыться от напастей, сам испытал впоследствии гипнотическое при, когда пригласили в Академию общественных наук при ЦК КПСС на кафедру теории литературы и искусства; времена нынче изменились, кое-кто из АОНовцев старается не вспоминать эту страницу в послужном списке (так, во всяком случае, было до недавнего времени), обойти (как выкинешь слово из песни?) приставку, хотя кто помнит партшколу, к тому же переименована в РАГС, Российскую академию госслужбы, и вместо старой при ЦК КПСС новая: при президенте РФ. Выручало в общении со служивым идеологическим людом, не из них ли ты сам? удовлетворяя при этом и собственное тщеславие, когда пальцем в книжечка с гипнотическим АОН при ЦК КПСС, прикрывал непонятное АОН. Шутил в пору распада страны: в те годы впечатляло, если прикрыть пальцем АОН, а в постсоветские – при ЦК КПСС. Из всесильной этой кузницы кадров вышла почти вся уходящая элита, властная и оппозиционная, не только России, но и других стран СНГ, и длинный-предлинный список этот могли бы возглавить из живых – Геннадий Зюганов и Нурсултан Назарбаев, а из покойных –
Александр Яковлев
Прочёл его книгу воспоминаний «Сумерки» (соседи по даче Каверины дали) и с первых строк, каюсь, у меня возникли сомнения в искренности идеолога перестройки: это рассказ о зверствах социалистической системы и – без покаяния, хотя советские жесткости – продолжение многовековой нашенской ментальности; к тому же в книге отсутствует взгляд с позиций инонационала – без революции продолжилась бы молка-перемолка этносов, хотя и ничего плохого в ассимиляции с точки зрения мировой истории я не вижу (для иностранцев все мы – русские, обитаемое нами пространство – земля русских), но всё же птичку жалко. «Палаческая власть Ульянова (Ленина) и Джугашвили (Сталина)», - пишет Александр Яковлев: стилистика тут заданная, а скобки фальшивы (де, грузин?); разве не в многовековых традициях почти немецкой династии Романовых большевики, в том числе грузин Сталин, крепили с той или иной долей субъективной жестокости русское государство? Конечно, не забудем, что Александр Яковлев проделал колоссальную работу по изданию закрытых партийных материалов, как в поговорке у нас говорится: «Ачды сандыгы – токду памбыгы», или «Откинул крышку сундука – разворошил содержимое»: с 1997 года в учреждённой им серии «Россия. ХХ век» вышло немало под его редакцией книг, из которых узнал много поучительного, в том числе, и о моём соседе В.А. Каверине, кому крепко досталось в те годы за гнусные произведения, чуждые идейной направленности советской литературы; припомнили Каверину из повести «Художник неизвестен», клеветнической, заумной, охаивающей советских людей, слова персонажа, точно принадлежат писателю (живучий «метод» анализа художественного текста): Запад для нас – это ящик с инструментами, без которых нельзя построить даже дощатый сарай, не только социализм. Не хочу оспорить прозвучавшее в день похорон Яковлева желание встроить его в ряд дорогих русской культуре фигур –Андрей Сахаров, Дмитрий Лихачёв, Александр Солженицын, Борис Пастернак. А недавно попалась мне блистательная записка Яковлева Горбачёву (личное, январь 1988): Есть математические задачи, которые не имеют решения, – они неразрешимы. Существуют и математические методы, которые доказывают неразрешимость таких задач. Подобно им, карабахская проблема сегодня неразрешима. Помню, встретились с Яковлевым на какой-то презентации, дружески поздоровался со мной как со старым знакомым, а я ему, что часто вспоминаем его с бывшим завкафедрой АОН Новиковым: «Как? ВасВас жив (так звали Василия Васильевича)? Ему ведь…» «Да, почти девяносто». «Он был непредсказуем, слыл ортодоксом, но неожиданно мог оказаться вольнодумцем, частенько спорил с Черноуцаном, это мой старинный друг». Разные люди работали в ЦК, даже относительно смелые, вроде Черноуцана, хотя костяк составляли карьеристы, был, к примеру, партдеятель-«философ» К.Д., клеймил «советологов-кремлелогов», разлагающееся буржуазное искусство, мечтая быть приближенным к первым лицам, дабы влить в их одряхлевшие головы свежие идеи в духе Макиавелли, как научно править обществом, а нынче доказывает объективность и правдивость тех, с кем он, наивный, тогда боролся. Понравился Яковлеву мой сон, который рассказал ему: «Захожу в нашу с Вами бывшую Академию, и у нашей кафедры один из сотрудников с укором мне: У вас большие задолженности по членским взносам, а я ему: Какие взносы? Партии нет! А он: Для вас нет, а для нас есть! Платите, а то исключим! - Исключайте! Но как же так: не быть в партии и тут работать? Иду к лифту, а мне: Лифт только для членов партии! Думаю: я же на третьем этаже, зачем мне лифт? Да, – говорит мне Яковлев с тоской в голосе, – будет наша бывшая Академия, ныне – Академия госслужбы – готовить кадры для единственной партии. А ведь прав: все иные партии отомрут, дескать, вносят раскол в общество, а обвинения похлеще (не только в России), что поощряют заговоры и разрушают единство России, и да здравствует однопартийность! Слушая его, я думал, что и он, очевидно, как я, долгие годы даже после ХХ съезда верил в идеальный социализм, что хорошие идеи исказились, кардинальные перемены неизбежны, и потому, мне думалось, надо изыскивать легальные формы протеста против реальной системы, наивно полагая, что, говоря через историю о современности, выражу наболевшее: описывал средневековые деяния кровавого Шах-Аббаса, церемониалы тогдашних сборов, встреч, имея в виду ситуации политбюрейные – очень уж были они, как представлялось по рассказам сведущих, схожи. Но каждый раз – полная безысходность, что никаких изменений к лучшему не будет. А после перестройки за ширмой демократии состязались загребущие собственники: кто кого перемиллиардит.
Взгляд российского инонационала
Думаю, когда-нибудь все согласятся с моим тезисом: Каждый помнит, как резали их, но никто не хочет признать, как резали они сами, и учредится Всемирный день покаяния, и тогда россияне, к каковым отношу и себя, честно признаются, что основным, всепоглощающим делом, смыслом и занятием титульного народа в течение веков было до самого недавнего времени то, что нынче именуется ёмкой формулой военно-промышленный комплекс: уметь воевать, защищаясь, нападать и шириться, обрастая новыми территориями, ну и, разумеется, иметь собственного производства совершенное современное оружие; и важнейшим стратегическим обретением, своего рода залогом непобедимости стало агромадное непроглатываемое пространство с вечной мерзлотой и сибирскими далями, для удержания которого опять-таки необходимы были сильное воинство и мощная карательная система. Эти внешняя и внутренняя цели доминировали всегда и во всём, и, если хоть на какое-то время, всегда очень короткое, они утрачивали актуальность, стране грозил распад, чему мы и стали свидетелями. Наличие военного-идеологического стержня привело к тому, что за многие века не выработался здесь достойный уважающей себя страны мирно-созидательный комплекс. Но как национал-россиянин замечу справедливости ради, что социалистическая революция, как и развал страны, больше всего ударили по титульному этносу, многие другие народы так или иначе оказались в выигрыше: после революции – формирование и развитие национальной культуры, после развала – обретение государственности. Другая сторона медали – равнодушие до наплевизма властных структур к жизни как собственного народа, так и инонационалов, коих, за исключением титульного, называли, что показательно, инородцами, точно пришлые, не коренные, – традиция, идущая от имперской России. Хочется особо подчеркнуть некий что ли парадокс: даже для свободолюбивых деятелей, начиная с декабристов, характерно было видеть Россию только как государство русских, инонционал при разговоре о её будущности просто не всплывал, игнорировался, да его и не спрашивали об этом. И эта традиция, с тех времён идущая, определяет миросозерцание даже таких деятелей, как… - с кого начать? Александра Яковлева? О нём уже было. Александра Солженицына? О нём ещё будет. Но, как это всегда бывает, и на сей раз существуют исключения: есть… Пушкин, который при всей своей политической преданности России (хотя бы отношение к Польше и её восстанию), видел Россию многоплеменной: в коротком «Памятнике» он, вот уж, помимо дальновидения, редкое даже теперь и недостающее многим современным политикам этномышление, вспоминает «внука славян», мало кому известных «тунгусов»-эвенков и почти целая строка – о «калмыках». А какую самокритичность он проявляет в «Путешествии в Арзрум»: Лёгкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения.. Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. А вот о поэте Фазил-хане [Шейда]: с помощью переводчика начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостию порядочного человека! Со стыдом принуждён я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Впредь не стану судить о человеке по его бараньей папахе и по крашеным ногтям. Сродни Пушкину (всего лишь двое?) Лев Толстой: не случайно – как какое этно-национальное неблагополучие в России, а оно слишком часто, властным чинам робко советуют непременно прочитать (боюсь, мало кто из них читал) «Хаджи-Мурат». Так что великими русскими завещаны традиции по крайней мере сочувствия и отзывчивости, а то и явного-скрытого чувства вины. P.S. Так долго Пушкин занимает моё сознание, что однажды приснился: комната в общежитии, едим-пьём, является один к застолью, говорит, с Пушкиным был. «Как с Пушкиным?!» – спрашиваю. А он мне, что должен в 3 часа вернуться напарника сменить, «можешь пойти вместо меня». Жду-не дождусь, а потом иду по коридору, стучусь в дверь, вхожу и… Пушкин! Захлёбываясь от восторга, что-то путанно говорю, не находя нужных слов, чтобы выразить чувства, а он: «Не надо, оставьте, успокойтесь!» «Вы, великий, такого второго…» Перебивает меня: «Да что Вы в самом деле заладили?» А я: «Знаете ли, из какого я времени?» И тут Пушкин вдруг вспыхнул и зло: «Да умолкните, наконец! Какие глупости!» Напарник знаки мне делает, мол, оставьте его, шепчет у двери: «Как можно говорить ему такое, он ведь в своём времени!» А я подумал: не слишком ли тяжкое бремя в назидание другим я взваливаю на плечи бедного Пушкина?
Хасбулат удалой
Второй год войны, особенно лето и осень, самый тяжёлый: голод, длиннющие очереди за хлебом, керосином. Дважды над Баку появлялся немецкий самолет-разведчик, я взбирался на крышу и смотрел на ясное, чистое небо, где летал высоко-высоко самолёт, а вокруг, не достигая его, вспыхивали маленькие белые облачка от зениток, грохочущих без толку. Но ни одной бомбёжки: к чему сжигать промысла, если вскоре – убеждены были немцы – это будет принадлежать им? Вдруг стало невмоготу: нечего есть, карточки потеряны, крах!.. А однажды… Ты съела хлеб по дороге! – бросил бабушке, тут же покраснев: понял, что сказал недопустимое. А потом… по сей день перед глазами: видел, как бабушка просит у прохожих хлеб!.. С годами стыд от сказанного меня не покидал, преследовал, угнетал, и вот наступил день, когда ощутил острую потребность выразить полноту ужаса, от которого не могу избавиться. Если не выговорюсь – умру! Родился диалог с самим собой, честный и безжалостный, никогда уже на такую высоту откровенности я не поднимался, но что толку, что сегодня каюсь: те слова были произнесены, от боли не уйти. В тот год бабушка стала… донором! Кровь оказалась хорошая, «потому что с николаевских времён»: всё, что с царских дней, отмечено в её сознании высоким качеством. Сдаст кровь, приходит усталая домой, и долго бездыханно лежит, прикрыв глаза, веки вздрагивают. Два лета подряд провёл с матерью в горах (бабушка с братом оставались дома): её приглашали в медицинскую бригаду: врач, санитар и моя мать-акушерка, обслуживать кочевья, летние пастбища; врачиха Иглимэ-ханым брала дочь, звали её Кармен, имя тогда входило, как и Эсмеральда, в моду; санитаром в бригаду зачислила родного брата Хасбулата, добрый малый, лет на десять старше меня; никаким санитаром он не был, слабый и хилый, освобождённый от армии… – от него, русскоязычного земляка, наслышался множество разных историй, узнал кавказские песни, в частности, про удалого его тёзку Хасбулата, чья сакля бедна, готов ради коня отдать жену; песни, почерпнутые из книжек, позже вернутся ко мне из тех же романтических источников, и я заново переживу сюжеты, близкие мне по общему кавказскому происхождению, но далёкие по мироощущению и духу, ибо отравлен («обогащён»?) «чужеродными» веяниями и не пойму: могу ли именоваться нынче «кавказцем»? Поездки в составе медбригады спасали нашу семью от голодной смерти: мы меняли на еду подушки, одеяла, платья и рубашки, платки, пальто габардиновое матери, оно ей очень шло, помню, как переживала, что вынуждена распроститься, разную посуду, даже ниточку ожерелья из не помню скольких, был подарок отца, мать выменяла на что-то съедобное. А еда, вывозимая из кочевья, такая: варилась баранина, кусками мяса доверху заполнялись глиняные сосуды, застывший жир долго хранил сваренное, и это выручало нас осенью, зимой и весной. С семьёй врача связи надолго прервались, и – встреча с Кармен на телевидении, где я выступал, а брата – с Иглимэ-ханым возобновила их, к тому же оказалась, что она родственница известного писателя Исмаила Шихлы, с кем успел я к тому времени сдружиться, и – снова на многие годы разрыв. Первая поездка – на эйлаги-пастбища Алты-Агача: на арбе поднимались из райцентра в горы, услышал, что сдали Севастополь; вторая поездка – в Карабах, на вершину горы Гирс, жизнь в палатках среди пастухов, отар и собак, случалось, погода на дню резко менялась: только что ясно, во всю светит солнце, а уже туман, будто существо живое, движется на тебя стремительно, неся дождь или град. Пастухи, дабы собаки не дремали, время от времени кричали: «Волки! Волки!» В душе смеялся – а зря! – над их наивной, казалось, убеждённостью, что собаки их понимают.
Потом была победа
О ней громогласно и торжественно поведало радио в тёплый майский день, и я, услыхав весть, ошалело выскочил из дому, помчался к Пятиэтажке-Бешмертебе, самый высокий тогда дом в Баку, на площади многолюдно, спешу разделить с друзьями Гличёвым, Согомоновым радостное возбуждение… В памяти осталось лишь как бежал туда. По сохранившейся у меня школьной характеристике, выданной завучем Хорузиком, можно заключить – начисто забыл, – что намеревался поступить… в военно-морское училище! Мало мытарств было с ереванской спецшколой, а тут – училище! Располагалось в Баку, прельщала жизнь при нашем безденежье на всём готовом. Или гены мореходства заговорили во мне? Дед мой моряк-капитан, Рахман, сын его от второй жены, закончил это же училище и работает механиком судовой службы; иногда приходил навестить, однажды показал, как морской узел завязывается. Заголовок – моей рукой: Характеристика уч. 8 класса 171 школы Гусейнова Чингиза, дана для представления в Бакинское подготовительное Военно-морское уч-ще, далее – завуч, он же Кл. Рук., что я способный, трудолюбивый ученик, хороший товарищ. Работу порученную выполняет точно и своевременно, учеником в Военно-мор. училище он безусловно будет хорошим (печать), 30/III-45 г. Класс 9-й и – новая школа 8-я рядом с синагогой, 10-й – тоже новая школа, знаменитая 160-я за Оперным театром: десять лет учёбы десять школ!.. Много читал: Остров сокровищ [впоследствии на чёрном рынке так назывался «Архипелаг Гулаг»], Дети капитана Гранта, Дон Кихот. Была у меня книжка, нравилась, точно я оказался на необитаемом острове, на обложке – Робинзон, но Крузое, уговорил одноклассник Боря Лебедев поменять на… саблю, тяжёлую, с ржавыми пятнами, принёс домой, придерживая рукой под брюками и слегка прихрамывая, спрятал меж матрацем и железной сеткой кровати и вскоре забыл о ней. А когда вспомнил – нет её под матрацем: мать выкинула… сожалел не о сабле, зачем мне? а о книге: обманул меня тощий и с хитрыми глазами Лебедев. Увлечения в старших классах: Два капитана Каверина, Молодая Гвардия Фадеева – увижу его в СП, когда буду работать в Комиссии по национальным литературам: сидят рядышком с Леоновым, друг к другу обращаются: Саша… Лёня… Романтические рассказы Горького. Культ Маяковского, шпарю строки часами: Читайте, завидуйте!.. и что диалектику учили не по Гегелю (не ведаю про Гегеля). В 9-м – Евгений Онегин, наизусть, в 10-м – Война и мир и Тихий Дон. Фучик: Репортаж с петлей на шее. Эльмар Грин: Ветер с юга. Находка: Достоевский, Белые ночи. В горьковской библиотеке МГУ прочту (девицу охмурил, спасибо ей) запрещённых Бесов. Пожирал в Москве классику: французов, англичан, американцев, итальянцев, потрясение – Божественная комедия Данте. Много позже составил список от Илиады и Одиссеи до… увы, не довёл «учёбу» до конца. В школе привычка появилась заглядывать в последние страницы, где сведения об исторических лицах, – выписывал: кто? чем знаменит? когда родился, умер – к примеру: утонул английский поэт Шелли. Мир азербайджанской литературы в русской школе… тут выбор мой, более стихийный, нежели осознанный, хотя величие Сабира, Мамедкулизаде, Мирзы-Фатали Ахундова пойму позже. Завелась в старших классах, сохранилась до сей поры, записная книжка с изображением конской головы на обложке, истлела, каждый раз жалко выбрасывать, в ней мысли, т.с., мудрых людей, ибо – этим афоризмом Пушкина открывается книжка – следовать за мыслями великого человека есть наука самая замечательная. Тут (перелистаю занятный «список») Суворов (побеждают не числом, а умением), Лермонтов, Гоголь, с тех пор руководствуюсь его призывом: Бей в прошедшем настоящее, Софокл, Горький, Вольтер, Монтескье, Саади, Фирдоуси, Толстой, Сенека, Руставели, Некрасов, Чехов, Киров: Наша партия тверда, как гранит! Наша партия едина, нераздельна, как монолит, – манила чёткость формы. Представляю, как актуально: Тургенев, Муж всегда виноват, когда жена нехорошо себя ведёт (а ведь и впрямь актуально!). Карамзин: Чем более живём, тем более объясняется для нас цель жизни и совершенство её. Данте: Иди своей дорогой, и пусть люди говорят, что хотят. Как без знаменитого Николая Островского: о бесцельно прожитой жизни и про мучительную боль? Шекспир: Кто в нужде спешит к былым друзьям, Тот в недругов их превращает сам. Лозунг: Командирский приказ – отцовский наказ. Вот ещё: Ученье в молодости – резьба на камне, в старости – черчение на песке; считал арабской поговоркой, а это из Талмуда, вот арабские: Не смейся над старостью того, чьей молодости не видел. И другая: Отправляясь в дальнюю дорогу, думай, как будешь возвращаться. Леонардо да Винчи: и я, как он, левша, зеркально пишу; как не оказаться с афоризмом меж ними, но… зачёркнут, читается лишь: Целься, чтобы меткою была, а чем и куда целиться – не прочитывается. Короче, каша в голове!.. Но не были детьми, многое понимали, осознавали, что есть добро, а что – зло, это было на уровне генетическом, что ли, изначально заложенным в природе человека. Диалоги-общения строились на понятной всем основе, то есть мы были вполне взрослыми. Даже о смерти задумывались, может, не так часто, как теперь, но при этом сильна была вера в вечность собственного бытия: ведь быть не может, чтобы тебя не было, и убеждённость, что впереди непременно – лишь хорошее.
Юрий Суровцев или Исчезающая (?!) профессия
Наше знакомство с Юрой, как я всегда называл Юрия Суровцева, относится к временам далёким как по годам, так и эпохам, когда существовала и развивалась многонациональная советская литература, имея свою организационно-творческую или аппаратно-чиновничью структуру в лице Комиссии по литературам народов СССР, созданную на Втором съезде писателей. Двадцатипятилетний Юра был рядовым сотрудником «Литгазеты» в отделе с тем же названием, что и «комиссия», возглавляемом Петром Никитичем, это – псевдоним, истинная фамилия – Ребус. Попал в замечательный коллектив, где были такие специалисты, как опекавшая его на первых порах Лариса Лебедева, известный востоковед. По МГУ, который мы закончили (я – годом раньше), Юру не помнил: лучше знал живших в общежитии на Стромынке, а он был москвичом. С публикации в соавторстве с ним большой статьи в «Литгазете» «Специфика критической дубинки» началось интенсивное наше общение, и продолжалось до его смерти в ноябре 2001 года… – пора нового портрета. Мы с Юрой встречались на всякого рода частых обсуждениях произведений и проблем литератур по случаю национальных Декад и Недель в Москве, зачастую показушных, хотя и небесполезных – взглянуть на себя со стороны: тогда, в отличие от времён нынешних, националы не столь ревниво относились к суждениям об их литературах иноязычных, критика по случаю праздника бывала щадящей и всю вину за недочёты произведения взваливали, как правило, на переводчиков. Стали в 1957-м соседями в писательском доме на Ломоносовском проспекте – наша комната на третьем этаже коммунальной квартиры была над их комнатой, ну и, естественно, частые встречи-застолья, дни рождения и прочее, Марина, жена Юры (жёны наши – тёзки), была хлебосольна, впервые у них услышали песни Окуджавы, входившего в моду, в великолепном исполнении Юры: неплохой голос, чуткость к мелодии, её нюансам; потом, когда услышал песни в авторском исполнении, сравнение было не в пользу Окуджавы. У Юры познакомились с двумя талантливыми львами: Аннинским и Антопольским, а также Валентином Оскоцким, Всеволодом Ревичем, Зоей Крахмальниковой… Однажды у Юры читал свои стихи Стасик Лесневский; отметил в дневнике: «стихи прекрасные». Впервые встретился у Юры с честнейшим Анфиногеновым Артёмом, записал в дневнике: Очень критически настроен ко всему и вся, что творится: засилие верхов, цензура, отсутствие гласности (критика шла, естественно, с позиций истинного коммунизма, который, де, искажается). И далее: Неожиданное признание Юры: мечтает поехать изучать жизнь во всех её связях в Сумгаит, индустральный гигант Азербайджана, поработать в газете, отрешиться от зажиточного прозябания, представительской жизни. Всерьёз занимаясь литературами, вовлёкся в исследование теории наций и национальных отношений, штудировал, помню, на немецком труды австрийских этнологов; как-то два дня кряду читал мне большую работу, обсуждали, интерес его был столь глубоким и всеохватывающим, что взялся за изучение тюркских языков, приучил себя читать украинцев и белорусов в оригинале, переводил (с подстрочника) азербайджанца Ису Гусейнова, узбеков Примкула Кадырова и Адиля Якубова, латышку Дагнию Зигмонте, пытался постичь языковые премудрости финно-угорцев, издал монографию об эстонце Юхане Смууле, защитив её как кандидатскую диссертацию. Было востребовано вымирающее ныне племя специалистов по национальным литературам, с чем была связана и служебная карьера Суровцева, из-за чего сегодня возникают и обвинения в его адрес, де, обслуживал советскую административно-чиновничью систему. Рост его был определён организаторским талантом, блестящим знанием литератур, чуткостью к национальной психологии, ну и, конечно, идеологическим потребностям времени. Вехи службы: рядовой литсотрудник, замзав и завотделом в «Литгазете», замглавред журнала «Дружба народов», замглавред «Литгазеты», главред журнал «Литературное обозрение», созданного при непосредственном его участии; пик успеха – секретарь СП (в застойный период СП). Далее известно – крах структуры всемогущего СП по части нацлитератур. Болезненно восприняли с ним, солидарные во взглядах, кровавые нациовойны, этнофобские настроения, формирующие такие понятия, как лкн (лица кавказской национальности), трудно фиксируемое, но произносимое легко просторечие чернож… (перо сломалось): всё это – развитие практики нацдепортаций. За годы общений с Юрой было немало плюс-минусового, и, хотя встречи-застолья давно пошли на убыль, поддерживали контакты, участившиеся, как стали соседями в Переделкино. Наткнулся на запись, 90-е гг: «встретил на днях Суровцевых на платформе «Мичуринец» и так вышло, что от неожиданности встречи расцеловались с Юрой, при этом подумал: с чего вдруг? Не виделись давно + солнечный день и хорошее настроение + они с женой Мариной встречали друзей + шум, веселье, и он сказал мне: «Послушай, когда дашь роман («Доктор N»), жду!» Той же ночью трансформация реальности во сне: видел Булата Окуджаву, тепло встретились, расцеловались, он и я недоумеваем: ведь прежде, кажется, не испытывали друг к другу подобные чувства. Зашёл к Суровцевым на дачу отдать обещанный роман, узнаю, что ему предлагают возглавить Союз московских писателей (Вл. Савельев умер), готов согласиться, если оговорят право ходить на творческие мероприятия даже т.н. враждебных союзов; увы, конфронтации продолжаются – председательство его было недолгим: ещё не созрели до мирного, т.с., сосуществования писательских союзов… Вспоминается из школьного сочинения тех лет: «Они влачили жалкое сосуществование». Новая встреча: С твоим романом, – говорит, – медленное чтение, молодец, всё время что-то ищешь, а главное – находишь!.. Но для кого ты пишешь? По-прежнему для себя?.. Что ж, – с ехидцей, – это чувствуется, но я надеюсь, что много нового и я для себя почерпну. Встретились в Конференц-зале бывшего союзного СП в 1998-м: отмечали 70-летний юбилей Айтматова в его отсутствие: не смог приехать из-за рубежа (а 75-летие отмечали там же в его присутствии в феврале 2004 г.); появился повод поговорить о творчестве писателя в смысле не общепринятом (идеи, образы и т.д., о чём сказано немало), а в контексте проблем как недавно пережитого, так и нынешнего. Плюсы прошлого, о чём говорил и Суровцев: были во множестве литературы в большом пространстве русского языка, благодаря которому и выходили на мировую арену; мощно были представлены писатели всех наций и народностей, и тут что ни имя – яркое дарование, и я с удовольствием назвал «Потерянный кров» литовца Й. Авижюса – надеюсь, Вы живы, Йонас, и не отрекаетесь от своего литовского шедевра, удостоенного в своё время Ленинской премии? цикл ярких исторических романов грузина Отара Чиладзе «Шёл человек…», «И всякий, кто встретится со мной», «Железный театр», написал новый роман, ныне переводится на русский; а Василь Быков, Чабуа Амирэджиби, Ион Друце, Грант Матевосян, Юстинас Марцинкявичюс? Энн Ветемаа, автор "маленьких романов", Эмэ Бээкман, мастер гротеска; русскоязычные – сам юбиляр Айтматов, русский таджик Тимур Зульфикаров, русский татарин Рустам Валеев, русский чуваш Айги… – разбрелись по своим этноквартирам. Как не сказать и о минусах: диктат цензуры, жесткая социологизация, отторжение огромного духовного пласта по принципу идеологии, – имена и тут в изобилии: Замятин, Мережковский, Платонов, Набоков... – начать и не кончить! Дважды встречались с Суровцевым на похоронах коллег: Ивана Карабутенко, специалиста по украинской литературе, и, когда возвращались, рассказал, что недавно выступил с докладом «От какого марксизма мы отказываемся?» в своём институте нацпроблем, а я ему напомнил часто звучащую в моих устах фразу, услышал в отрочестве, в духе нынешних рыночных отношений: «Да здравствует Карл Маркс и базар семь дней в неделю!». Вскоре и коллегу Георгия Ломидзе хоронили, в тот день на лекции в МГУ помянул его, поехал на Троекуровское кладбище, далее – поминки в ИМЛИ, и по пути домой обсуждали с Суровцевым только что изданный в Степанакерте Валей Оскоцким «Карабахский дневник»: Я говорил ему, не встревай в это политизированное дело, не послушался! Юра, доподлинно знающий нацпроблемы в стране, не мог согласиться с идеями книги, что, де, армянам в Азербайджане запрещали читать по-армянски (в Баку на армянском выходил литературный журнал, газеты, в СП была секция армянских писателей), что никто из армян не смел, минуя Баку, поехать из Армении в Нагорный Карабах, – всё это неправда, пиар.
Назым Хикмет: Страна моя в инфаркте моего сердца
Каково было жить турецкому поэту-эмигранту вне родины, откуда (точнее – из тюрьмы) он бежал в 1950-м, будучи всемирно известным поэтом. И никогда уже не мог вернуться в Турцию – умер и похоронен в Москве, на чужбине, в 1963-м. А ведь поэту, выходцу из семьи крупных военачальников-пашей, прочили – вполне подходящая стать, высок и строен, – судьбу турецкого адмирала. Осуждённый за «коммунистическую пропаганду», Хикмет должен был выйти из тюрьмы… – об этом вспоминал на 60-летии в ЦДЛ: «17 лет тюрьмы, который мне дали, не такой уж большой срок. Есть осужденные на 30 лет. Я должен был сидеть в тюрьме до 1964-го года… Да, политзаключенный, и ещё томиться в одиночной камере: не с кем говорить годами, выходишь – почти разучиваешься говорить». Обманув охранников – приучил к чёткому режиму прогулок, потом нарушил, избегнув слежки, бежал из тюрьмы, и – на советской подлодке в СССР. Помню слёзы на глазах Назыма, когда его чествовали: тяжка разлука с родиной. Михаил Светлов: «Мы видели прирученных поэтов бурь… Но Назым – из истинных поэтов бурь»; Самуил Маршак: «Сколько зим, сколько лет, Здравствуй, Назым Хикмет!» Прозвучала в переводе Бориса Слуцкого «Моя автобиография», без запятых и точек, как сама жизнь, ибо точка – смерть: Одним знакомы виды трав Другим виды рыб А мне виды разлук Мне было тридцать шесть когда За полгода я прошел четыре метра По бетонному полу одиночки Мне было пятьдесят девять когда за восемнадцать часов я перелетел из Праги в Гаванну Низвергались идолы по осколкам Меня не раздавили. Показали мультфильмпо сценарию Назыма «Влюбленное облачко», а народ не расходился, ждал чего-то, поэт встал с первого ряда: «Кажется, – обратился к залу, – уже ничего показывать не будут. Спасибо вам!» Чуть ли не первая встреча по приезде в СССР – со студентами МГУ в так называемой Коммунистической аудитории, вела вечер студентка восточного отделения Лариса Лебедева, готовилась стать тюркологом, прочитала на радость поэту его стихи на турецком … – я на той встрече не был: лежал с воспалением лёгких в больнице, что рядом со Стромынкой. Назым любил пространственно-временные перемещения: Мои девятнадцать лет проходят на площади Баязита [турецкий символ оттоманского величия], поднимаются на Красную площадь [символ революционный], спускаются на площадь Согласия [хаос гармонии?], я встречаю Абидина [Дино: наконец-то живая душа – встреча с родиной, но оба изгнаны], и мы говорим о площадях… [для новых прыжков?]. Даже лучшие переводчики не могли передать дух его поэзии, сокрытую в ней элегичность, боль, неистребимый минор, раскрыть тайну воздействия оригинала на читателя; тут всё просто, ясно, никаких словесных игр, а в переводе выходит плоско и банально; история знает непереводимых поэтов. Ностальгия по родине частично компенсировалась поездками в Баку, город молодости, куда Назым приезжал в 20-е, когда учился в знаменитом Коммунистическом университете трудящихся Востока: КУТВ готовил кадры для «экспорта революции»; оказался никудышным революционером, а коммунистом советского образца – подавно: а в творчестве, если вспомнить его сатиру «А был ли Иван Иванович?» о неизбежности «культа» при коммунистическом строе, - даже антикоммунист; мне повезло быть на генеральном просмотре: спектакль – даже в оттепельные годы! – запретили. Тогда же – стихи о «культе»: Однажды утром исчез он Исчезли его сапоги украшавшие площади и универмаги Его тень с деревьев Его усы из нашего супа Его глаза со стен наших комнат И с груди нашей сняли груз тяжкий Тонны камня бронзы гипса И тонны бумаги Не люблю людей чугунных и бронзовых Если не спускаются с пьедесталов погулять среди нас. Сидели втроём, Мехти Гусейн, Назым Хикмет и я. Назым рассказывал о жизни в Москве в годы учёбы: «Литобъединений было столько, сколько футбольных команд, но разница между ними – каждая команда имеет устойчивых болельщиков, а читатели часто меняли кумиров». Как-то услыхал Светлова, понравилось про гранату, сочинил похожее, потом узнал: не граната, которая взрывается, а Гранада, город в Испании; Маяковский вёл вечер поэзии в Политехническом музее [это был 1923-й год, 8 марта, митинг с участием членов Коминтерна на тему «Революция и литература», о чём известила «Правда» 11-го марта; там выступили и поэт В. Каменский и А. Кручёных], Назым перед выступлением волновался, а тот ему: «Не дрейфь, турок, всё равно никто не понимает, можешь читать что угодно». Вспоминал Мейерхольда, Таирова, хотел инсценировать в стихах ленинские работы, были как учебники, – «Материализм и эмпириокритицизм», «Империализм как высшая стадия капитализма»». «В ранних моих пьесах – элементы кино и всякие другие трюкачества. Написал и возгордился в душе. Тщеславие! Но нечем гордиться!». О пьесе «Череп» («Кялля»): сидел в одиночной, его друг, директор самого модерн-театра в Стамбуле предложил написать пьесу. За неделю завершил. Ничего страшнее одиночной камеры: не с кем говорить годами, выходят – разучиваются говорить. Горд, что в Баку вышел первый сборник стихов: Гунеши иченлерин туркусу, «Песня пьющих солнце». В годы оттепели широко отмечались праздники культур, юбилеи писателей, не раз приходилось бывать с Назымом в Баку, видеть, с какой радостью окунается в стихию языка, купается в тюркском, ощущая себя будто в Стамбуле. Официальные встречи, конференции шли в Азербайджане, как правило, на русском, ибо на такого рода мероприятиях участвовали представители многих народов, могли понимать друг друга только по-русски; так вот, поднимается на трибуну высокий, голубоглазый, красивый мужчина и произносит родные «Азиз кардешлерим!» – зал тотчас взрывается. А потом – овация буквально после каждого турецкого его слова на фоне торжествующего русского. Запись моя: Различие менталитетов азербайджанского и грузинского: Ираклий Абашидзе вёл вечер интернациональной дружбы в Тбилиси по-грузински, это 1962-й; когда произнёс: «Павел Антокольский», бедняжка не знал, то ли дали слово, то ли представляют публике. Иосиф Нонешвили, сидя рядом в президиуме, переводил мне. Выступили русские рабочий и ткачиха на чистейшем грузинском, Нонешвили с гордостью: «Видишь, как воспитали наших русских!» Выскажу долгоиграющее суждение: что было рождено в те годы потребностью времени (пропагандировать дружбу народов, выискивая примеры, коих было в реальности немало), предано в пору постсоветских этноконфликтов осмеянию, по части «языка межнационального общения» тоже, может по истечении времени, в зависимости от поворотов судьбы быть востребовано: что было однажды – не исчезает бесследно, сколь долго б не продолжалось забвение. Назым говорил коротко на собраниях в СП, появится, говорили о нём, точно солнечный луч, сверкнёт на секунду, скажет несколько талантливых слов и – исчезнет. И в Баку: фразы его короткие, теплые, сердечные; мы обожали турецкую речь, а заодно и турок; любовь поостыла чуть-чуть в постсоветские годы в условиях рынка: оказывается, турки ничем не отличаются от тех своих, для которых деньги – превыше всего, и можно продать ради обогащения всё и вся, и честь, и совесть. Из последних поездок в Баку – на юбилей Сабира, есть статья Хикмета о нём: О Сабире написано много томов, будет ещё. Два урока преподал нам, которые учат: мужеству, геройству, неустрашимости. Беспощадной борьбе с явлениями, которые тянут народ назад. Искусству владения пером, литературе, достигшей философских глубин, силой обнажённого клинка обладающей. И – мастерству, живости, образности. Литературному языку, в основе которого лежит тот, что мы слышим в городе и селе, в домах, на фабрике, в поле. Я восхищён борьбой, которую поэт вёл, и ещё больше – литературным мастерством, с которым вёл эту борьбу. Замечательно, что азербайджанцы имеют такого поэта, как Сабир. Принимал участие Хикмет и в торжествах другого нашего классика – Мамедкулизаде, сокрушаясь, что тот не знаком туркам. Впоследствии в Турции вышел лишь один рассказ в переводе Азиза Несина, Почтовый ящик. Я сравнивал с оригиналом перевод на турецкий и ужаснулся: сатирика подвела обманчивая уверенность чуть ли не абсолютной близости наших языков, но порой одни и те же слова имеют в них диаметрально противоположный смысл, об этом – анекдотическая быль «зачинателя пролетарской азербайджанской поэзии» Сулеймана Рустама со ссылкой на Хикмета, почти в одно время они вступили на поэтическое поприще в Баку: «Идём как-то с Назымом по Москве, говорю ему: Назым, гычым агрыйыр («нога у меня болит»). Тот удивлённо посмотрел на меня. Спустя время снова говорю: Назым, гычым йаман агрыйыр («очень разболелась нога»). Тот снова промолчал, недоуменно глянув на меня, а потом, не успел рта раскрыть, как вспыхнул, обрушился на меня: Как не стыдно?! ты же мужчина и произносишь такое?! Выразил недоумение, мол, чего зазорного в моих словах: действительно болит нога! Вдруг его разобрал смех: гыч-нога по-турецки означает ж…, странно было слышать, что ж… болит!» С тех пор, как живу в Переделкино, выступаю гидом по Хикмету, рассказываю зачастившим к нам туркам об их земляке. Выработал «назымовский» маршрут: дача, где жил, бежав из неволи на свободу, о чём и без меня знали (перехитрил тюремщиков, приучив их к определённому режиму своих прогулок, а потом и нарушил, сумев избежать слежки); Переделкино тоже стало для него тогда неволей: при Сталине место закрытое для посещения иностранцами; далее мой маршрут дом-музей Пастернака, напротив огромного поля, некогда картофельного, – есть переделкинский фольклор: Аллея классиков», «Творческий тупик», а поле названо «Неясной поляной» (ныне огорожена, застраивается множеством коттеджей для толстосумов); по пути непременный визит к Вознесенскому; сохранилась запись о приезде турок в Москву (готовили документальный фильм к столетию поэта): «[2001] 3 июля, вт: очень жарко. Неожиданное явление с переводчицей симпатичных турчанок с редкими – новыми – именами Джан, или Душа, и Гиймет, Бесценная, с ними оператор. Суматоха в доме, потеющий и взволнованный я, идём (заранее договаривались) к Вознесенскому. Вошли, сидит в беседке, на столике… Гости потрясены, но не подают виду: поэт демонстрирует нам… – выходка нелепая: надевает на нечто, похожее на фаллос, презерватив и при этом улыбается, де, готовится к занятию по сексу в школе. Ведёт нас в мастерскую, сразу утыкаемся в гигантскую сексуальную попу, белую-белую, воткнута в неё красная бумажная стрела… – нечто вроде картины-плаката. После посещения дома-музея пришлось мне стать Назымом: сняли в спину, будто я – это он, навестивший только что Пастернака, и уходит, покидая дом, по узкой аллее вверх, такой кадр. Зайти на дачу, где жил Назым, не разрешил ныне арендующий её Игорь Золотусский… На этой даче жили прежде, до Назыма, Евгений Петров, родной брат Валентина Катаева («Помните, – говорю туркам: – Ильф и Петров? «Золотой телёнок»? «12 стульев»? знают – книги давно у них переведены и выпущены), а до войны жил тут какое-то время Пастернак; после Назыма – Петр Сажин, неотвязна эпиграмма о нём, где и про «Нилина» с рифмой «одна извилина», а перекрёстно рифма, где про «Сажина», откуда эта самая извилина «пересажена»; турки опечалены, что на дачу во внутрь их не пустили: что ж, надо заранее договариваться, не гоже нарушать покой подчёркивающего маститость литератора; туркам пришлось довольствоваться видом дачи снаружи: так и сняли. [Встретились с Золотусским, тепло со мной, может, сердечность как форма извинения, что не пустил на дачу турок? Ездил по Западу, снимают сериал о Гоголе; о Юре Манне, тоже гоголевед, жена недавно умерла, сын живёт в Америке, хозяин «СПИД-информа», и я вспомнил Азу Рахманову с её журналом о СПИДе, а через неё – к судьбе детей «врагов народа», которым всё же удавалось поступить в вуз (тут, помимо самого Игоря, и Оклянский, Гачев, Трифонов, Гей): почему и как? отца Золотусского арестовывали дважды: в 1937-м отверг все обвинения, ничего не подписав, сидел до 1944-го, а потом в 1951-м; мать тоже сидела, детдом… – учился в Казани, окончил с серебряной медалью школу, его имя на доске медалистов, где и Ленин, а Керенского нет; Игорю не хотели давать медаль, ультимативно настоял учитель по лит-ре; поступил без экзаменов в университет; власти иногда следовали лозунгу «сын за отца не отвечает»; о Симонове: в ташкентской «ссылке» опубликовал повесть «Лель», мол, надо ещё проверить, чисты ли те, которых реабилитируют? В «Живых и мёртвых» – мотивы антисталинизма, а к «застою» – снова к Сталину; у Игоря была работа о Симонове, получила отрицательный отзыв А. Бочарова, решил послать Симонову, тот согласился, что поспешил с «Лелем», не надо было печатать; о дачах: их приватизация в Переделкино не светит, а кое-кто из пробивных, имена на слуху, нашёл язык с Литфондом: заключили договоры на… полвека]. Не успели вернуться с турками к нам на чай – явился негодующий Евтушенко (ему не перезвонили, что придут), зашёл в калитку и с вызовом: «Вы что, меня не узнаёте?!» Выдал переводчице за оплошность в организации встречи, тут же на участке дал интервью туркам – де, Сталин намеревался организовать убийство Назыма. Между прочим, Назым следил за русской поэзией, высоко ценил «оттепельные» стихи Евтушенко, однажды попросил у меня его телефон – выразить восторг от строк: «Покуда наследники Сталина есть на земле, Мне будет казаться, Что Сталин ещё в мавзолее». Я рассказал туркам – хотели знать про личную жизнь Назыма – о его любви к молодой красивой Вере Туляковой, писателю-сценаристу. Интерес к интимной его жизни в Турции ныне велик, вышло большое исследование «Любимые женщины Назыма», эпиграф – его же слова: «Тому, кто не влюблён, жизнь – не жизнь»; первая подростковая любовь – Сабиха, дочь влиятельного вельможи султана Абдул-Гамида II, ей посвящены его первые стихи: «О женщина с чёрными глазами, как ты прекрасна!» Потом Азиза, любовные о ней стихи. Женитьба в Москве на турчанке Нусхет, дочери врача-турка, эмигранта, преподавал в Баку: училась с Назымом в КУТВе, заболела, вернулась в Баку, их с отцом выслали в Турцию за «проповедь пантюркизма», в 1924-м развелись. Позже – вторая женитьба, от которой сын, ему ныне под шестьдесят… К Назыму в Переделкино прикрепили Галину Колесникову, молода и красива, стала лечащим врачом и… любовницей; к ней часто прибегали, как врачебной скорой помощи (в воскресенье 13-го мая 1956-го, когда Фадеев застрелился в Переделкино, тотчас позвали, вспоминает Корней Чуковский, врачиху с дачи Назыма Галину. Приняв советское гражданство, Хикмет женился на Вере Туляковой, ей посвящена лирическая поэма Солома волос и глаз синева. Но прежде сумел усыпить бдительность Галины Колесниковой, неотступно следившей за каждым его шагом, и это его тяготило, но терпел, пока не полюбил другую, и, как некогда обманул тюремщиков, так и теперь сумел бежать от неё: вышел в домашних тапочках и пижаме проводить приятеля (Акпера, моего друга, он и рассказал эту эпопею), и… сел в его машину. Ищи-свищи теперь его: укатил на Кавказ, а потом (годы уже были не столь строгие, пик оттепели) объявил, что полюбил другую. Но в знак благодарности, что все годы Галина Колесникова оберегала его, оставил ей всё, что было, подарил автомашину, стоила дорого, купил ей дачу в Кунцево, что тоже стоило больших денег, помог устроиться на работу по специальности в поликлинике Литфонда (как-то пришла по вызову в качестве лечащего врача и к нам). Написала воспоминания, поведал мне тюрколог Тофик Меликли, с множеством фактов совместной жизни с Назымом в Переделкино, изданы ли – не знает; бережно собирала выбрасываемые им черновики, подолгу склеивая порванные рукописи, понимала, что могут быть полезными для исследователей (востребованы ли?). Был у Назыма в Переделкино дворняга Карабаш с примесью кавказской овчарки, здоровый, сильный, свирепый, и жена-врач, покидая дачу, продала его, но собака неоднократно рвала на новом месте цепи и прибегала на дачу, сторожила её, пустую, а то металась по Переделкино, наводя на всех ужас. Позвонили Назыму, чтоб забрал своего пса. Поэт тотчас приехал и состоялась его, так сказать, беседа с псом, которую точь-в-точь воспроизвожу. Поэт долго извинялся перед Карабашем: «Извини, думал, тебе здесь будет лучше, чем в городе. – Пёс отвернулся, обиженный на хозяина, которому был верен. – Я не знал, что тебя продадут, извини. – В глазах пса была тоска. – Если б знал, что тебе плохо, разве б не забрал тебя, Карабаш? – Боль у пса не проходила, лежал, отвратив взор от хозяина. – Не надо обижаться на меня, ну, честное слово, не знал, прости!» И тут в их беседу вмешалась библиотекарша Дома творчества, которая слышала весь разговор и почувствовала, что он не оставит пса, заберёт в город: «Назым, вы всегда забывали налить ему воду, он пил, где попало. Пожалуйства, не забывайте в городе давать собаке воду». «Я не то что воду буду давать, а поить кофе буду, по-турецки заваривать!» И тут собака подошла к нему, положила лапы ему на плечо – простила и примирилась, и он увёз Карабаша в Москву. Назым питал слабость к молодым женщинам, был любвеобилен. Живи дольше, он непременно б полюбил ещё, увлечённый поиском нового источника поэтического вдохновения. Одна из них – моя студентка по Литинституту Адиля Гусейнова, москвичка, прочёл её воспоминания, они встречались с Назымом в Баку, где «случайно» оказывалась она, когда он приезжал туда; что свидетель их любви – Акпер Бабаев; что именно о ней строка в поэтической автобиографии Назыма: «Я влюбился в шестьдесят», и, читая это на юбилейном вечере, он якобы пальцем незаметно для других показал на неё; впоследствии, де, этот стих был изъят, по её версии, Верой Туляковой даже в посвящённой ей поэме «Солома волос и глаз синева» - финал в первом варианте звучал: встретил Веру «после скольких-скольких женщин», в окончательном варианте «множество» исчезло: «единственная последняя любовь, последняя жена»; а главное – поэт умер именно в тот день, когда собирался насовсем к ней переехать, он якобы был у нее накануне, сказал: «Жди!» Воспоминания убеждают, в рассказанное веришь. Может, увлечения женщинами – своего рода его побеги от наиглавнейшей неволи, что особенно ощущалось в последние годы: разлука с родиной, языковой, творческой средой, в Турции появлялись новые писатели, о которых не знал, новые книги, которые не читал. Для писателя беда, когда не видишь читателя, не слышишь родной речи, оторван от друзей, близких, лишён духовного общения, задыхаешься. Даже смерть Назыма Хикмета была символической – в ожидании вестей из родины. «Если, - говорил, - не узнаю последние известия, разорвётся сердце: а вдруг какие новости из Турции?» Утром подошел к почтовому ящику вынуть газеты и не успел: скатился вниз, сел в углу – смерть! К тому времени выстраивалась и цепь прозрений поэта, начинались его постепенные разочарования в идеях, служение которым долгие годы придавало смысл жизни, эволюция утраты идеалов, в которые верил, была болезненной. Что тогда остаётся человеку? Побег из неволи плоти в свободу духа? Не этим ли объясняется, когда некуда бежать от себя, и ранняя смерть? В «Литгазете» от 4/УI/63 – о смерти Хикмета: «поэт-коммунист, замечательный художник, пламенный борец за дело рабочего класса, за мир, за демократию, за коммунизм»; заметка Николая Тихонова «Певец больших надежд», стихи Софронова «В полете» (пролетали над Турцией с Хикметом): Пусть навстречу ветра Пусть на каждом – истории мета. Верю, встретит еще Анкара На земле Назыма Хикмета. Хоронили 5-го; я летел из Баку с Расулом Рзой, самолёт швыряло, волновались; внешне спокойный, он сидел, крепко сжав бледные губы… – успели к похоронам! С турецким писателем Несином как-то говорили о любовях Назыма, объяснял «боязнью одиночества», потому, мол, «окружал себя женщинами». Тут же: «Не стоит об этом: для Турции он сделал столько, сколько не в состоянии сделать целая партия (имел в виду запрещённую компартию?). Трагедия, что не на Родине похоронен». Ратовал за перенесение праха в Турцию. «Мы смогли выпустить его книгу лишь после смерти, воспользовавшись традицией: об умершем – ни слова в осуждение, хотя и теперь слышатся обвинения в «измене», «шпион Москвы». Стояли у могилы Назыма на Ново-Девичьем, Несин: «Присмотритесь к памятнику. Кажется, навеки заточён в камень?» «Но пытается вырваться, – говорю, – из каменного рабства на волю!» «Он всю жизнь от чего-то и кого-то убегал», – проговорил Акпер. Из последних стихов Назыма: Лифте табутум йерлешмейеджек – В лифт мой гроб не вместится. / hейаты дерк етмейе башламышам Инамы итирмек баhасына – Начал постигать жизнь Ценой утраты веры. Помню, в Эстонии говорили со Смуулами – Юханом и Деборой Вааранди об их и нашем потрясении последними стихами Назыма: «Как же вынесут меня?.. В лифт я не вмещусь». Мне посчастливилось увидеть и услышать Назыма на родине после его смерти, – в 1969-м попал в Стамбул через Багдад (о чём – позже), ибо почти невозможно попасть в Турцию прямиком из СССР: наши в редких случаях выпускали, боясь, что станем невозвращенцами, попросим политическое убежище; а турецкие власти подозревали в тюрке-азербайджанце русского шпиона; сегодня поехать в Турцию – как съездить электричкой в Подмосковье. Не успел ступить на землю в стамбульском аэропорту, опомниться после только что увиденного с высоты синего шёлкового Босфора, живописных конусообразных островов зелени, как носильщик вынес мои вещи к такси. Шофёр, узнав, откуда я, сказал: «У вас жил предатель турецкого народа! Не слышали? Это о нём Ататюрк: Надо повесить, а потом сесть у его ног и горько зарыдать!» Да, я слышал об этих словах вождя турецкого народа Мустафы-Кемаля, сказанные в гневе: «повесить», ибо коммунист, «зарыдать», ибо погиб большой поэт: «Если Турция велика, то тем, что есть у неё Назым Хикмет!» «Коммунист?!» «Великий поэт!» «Но…» – хотел оспорить, прервал его: «Останови! Не хочу ехать в машине человека, который не понимает, какую неправду изрекают его уста!» Шофёр растерялся, упросил не покидать его: «Так объясните, если я не прав», – сказал и, молча выслушав меня, более не спорил, но и явного согласия тоже не выразил (потом на прилавках книжных ларьков я увидел рядом с книгами Ленина, Троцкого и Сталина… сборник стихов Хикмета: выпустили лишь первый том десятитомника, а всё издание запретили как содержащее «коммунистическую пропаганду»). Новая встреча: попал в Стамбуле в пробку, автобус двигался медленно, ибо на площади Таксим был театрализованный парад турецких воинов, одетых в старинные оттоманских времён яркие наряды с медными шлемами и высокими пиками, в честь шестисот-сколько-то-летия сухопутных войск. Молодой парень, сидевший рядом в автобусе, вдруг достаёт из портфеля книгу, на обложке которой – на ловца и зверь бежит! – читаю: Бои вокруг Назыма Хикмета (Назым Хикмет кавгалары). В книге – два взгляда на поэта, за и против, в духе предательства и величия. Долго едем в автобусе, разговорились, поначалу собеседник был не словоохотлив, мол, отношения к поэту ещё не выработал. Возможно, по причине: «Меньше болтай – шпик не дремлет». Когда узнал, что видит человека, лично знавшего поэта, разговорился… Странное у меня было чувство: рассказывать турку, который весь – внимание, о поэте его народа. Ещё встреча – на открытой веранде высотного дома в Анкаре за день до отлёта в Москву. Я гость турецкого журналиста. Тёплая, ясная ночь. Над головой крупные яркие звёзды. Город в огнях, слепящих вблизи, мерцающих вдалеке. Портативный магнитофон. Потрёпанный том «бабаевского» восьмитомника Хикмета (Бабаев – фамилия Акпера). На веранду из комнаты лился свет, хозяйка дома следила за текстом поэта, и мы молча слушаем, как читает свои стихи, нет, не я привёз эти записи, они пришли сюда через Францию… – не от проживающего ли в Париже художника-эмигранта Абидина Дино, друга Назыма? Запись не высокого качества, но слова ясно слышны: негромкий, с отдалёнными басовитыми звуками, несколько грустный голос Назыма – явился на родину. Страна моя, страна моя, страна моя, На дорогах твоих я не износил своих башмаков… Мои стихи выходят на языках чужих, А в Турции моей на моём родном под запретом… Страна моя… ты сейчас в сединах моих волос, в инфаркте моего сердца, в морщинах моего лба…– или, как звучат по-турецки: Сен шимди йалныз сачымын акында, инфарктында йурегимин. И его знаменитое: Если ты гореть не будешь, Если я гореть не буду, Если мы гореть не будем, То кто тогда развеет тьму? Одна из последних встреч, на сей раз с живым Хикметом (но жить ему оставалось недолго), состоялась у Мехти Гусейна в гостинице «Москва»: он ночью позвонил мне, только что прилетев из Турции, просил рано утром к нему придти, какие-то поручения – летит домой, спешит, не успевает; ездил в Турцию по личному приглашению тамошнего нашего посла (иначе визу не получишь: какая писательская организация рискнёт пригласить советского писателя, депутата и прочее?), поездка была удачная, к тому же доволен, что вышел в Москве роман «Утро» с моим предисловием: сочинял его долго и трудно, роман политизирован, громоздкий, каждую фразу вымучивал… или думал, что роман останется в истории? но как совместить мои думы с моим же похвальным славословием? а что делать? не писать – обидеть, к тому же заказ. Явился к Мехти, а у него… Назым, в такую-то рань! Взволнованно слушает рассказ о Турции, закрытой для него, а Мехти не может скрыть радости, он счастлив, в глазах – довольство, первый азербайджанский писатель, побывавший в Турции, говорит взахлёб, на столе разбросаны привезенные Мехти турецкие газеты, журналы, книги и, слушая, Назым лихорадочно рассматривает то одну, то другую… – разве насытишься? без читателя своих стихов, чтения чужих? Много лет спустя турецкий писатель Яшар Кемаль, я был с ним знаком, расскажет, что когда он учился в Кембридже, Назым звонил ему чуть ли не каждый день – услышать живой голос земляка, читал новые стихи, избывая тоску по читателю… И Назым вдруг просит Мехти дать ему на время хоть что-то почитать, я тебе тут же верну. Ликованье на челе Мехти угасает, сменяясь унынием: не привык в просьбе отказывать, тем более Назыму, но и расставаться с привезенным не может: Извини, дам потом, очень нужны для путевых заметок; выйдут на русском, «Месяц и один день», «Новый мир», 1964/2, после смерти Назыма и в канун смерти самого Мехти в 1965-м. Поэт простился и ушёл, от волнения забыв на крышке пианино защитные очки. Ну вот, очки забыл по рассеянности. Мехти сник, показалось, переживает, что отказал Назыму и с жаром о Турции рассказывал ему, переживающему невозможность поездки на родину. Погрустнел: Возьми очки, – заметил устало, – передашь ему. Так и прожил поэт в нескончаемой разлуке с Родиной, не приемлющей своего поэта, а то и равнодушной к нему: он – без неё, она – без него, хотя нынче там востребовано почти всё его творчество, но, как везде и всюду на земле, иные времена – иные писательские кумиры.
Князь Мехти Хасаевич Уцмиев
Социальное происхождение Уцмиева (такой пункт был в анкетах советской поры), тогда не очень выгодное, модно сейчас: выходец из знатного княжеского кумыкского рода Уцмиевых, правнук царского генерала Хасая, а также… – тут сделаю паузу, ибо если в азербайджанской среде назову имя человека, чьим правнуком он был, то посыплются недоуменные вопросы: мол, как же так, столько времени не знали про правнука нашей великой поэтессы Натеван Хуршид Бану, или «Ханкызы», «Ханская дочь», как её звали в народе, и кому в Баку установлен величественный памятник?! О Мехти Хасаевиче я сам узнал в начале 80-х годов: нас «познакомил» мой герой Мирза-Фатали, дружный с его прадедом Хасаем Уцмиевым: сохранилась книга Мирзы-Фатали с дарственной надписью по-русски князю Хасаю: «Душа моя из тех пламенных душ, которые никогда не в состоянии скрыть ни радости, ни печали, а потому я не могу не сообщить Вам сегодня мою радость – уничтожилось для меня всякое сомнение в несбыточности начатого нами предприятия и желание наше близко к исполнению, о чём с сего же числа даю Вам верное обещание. Объяснение оставляю до другого удобного случая. 18 марта 1846»; эти слова Ахундова впоследствии трактовались как чуть ли не участие в заговоре против царя; осталось нерасшифрованным и то, что вкладывалось в «желание, которое близко к исполнению». Генерал был легендарной личностью: отданный в детстве своим отцом Мусаханом, влиятельным дагестанским правителем, объединявшим владения семи кумыкских княжеских фамилий, в знак верности царю в аманаты, он был определён в Петербурге в пажеский корпус, затем послан учиться во Францию в Сен-Сирскую военную академию (которую окончил и Наполеон); и за него хан Карабаха Мехтигули отдал в жёны единственную дочь Хуршид Бану, она же поэтесса Натеван; Карабахское ханство со столицей Шуша в Нагорной части и с зимней резиденцией в части Низинной – Ханкенди, «Ханское село», ныне Степанакерт (обе части, а заодно земли вне Карабаха, оккупированы), существовало не одно столетие… У Хасая и Натеван вскоре родился сын Мехти (назвали в честь хана Карабахского), прославится как поэт «Вефа», или «Верный»; Мехти назвал сына в честь деда Хасаем, а Хасай второй дал сыну имя Мехти… так и передавались эти два имени из поколения в поколение. Карабахская знать не одобряла брак дочери хана с царским генералом, к тому же кумыком, и по этому поводу отпускались язвительные шутки, даже сочинялись пасквили, так что в конце концов брак их распался, и дети остались с отцом. Натеван вторично вышла замуж уже за азербайджанца, и потому линию Хасай-хана предали забвению, а если и вспоминали, то вскользь и невнятно, так что о том, что в Москве живёт правнук Натеван и Хасая – Мехти Хасаевич Уцмиев, а в Баку – правнучка Лейла-ханым, заведовавшая библиотекой консерватории в Баку, никто не знал, пока я не взбудоражил тамошнюю общественность, чем горжусь, и стали появляться статьи и интервью с ними. А было так: не успела в 1981-м году выйти «Неизбежность», как получил читательское письмо от незнакомого Уцмиева, и узнаю, что он самый что ни на есть правнук действующих в повести Натеван и Хасая; письмо, довольно лестное для меня, было с серьёзным замечанием, что облик Хасая не соответствует оригиналу… И вот – первая встреча с правнуком; потом их было множество – вплоть до его смерти в 1993 году, в 90-летнем возрасте. Каждый раз, приходя к ним, буду потрясён особым кавказским гостеприимством дома, в котором царят чуткость и внимание к каждому, кто сюда пришёл (естественно, благодаря хозяйке-жене, бакинке Доре Самойловне, в девичестве – Гусман, родной тёте Юлия и Михаила Гусманов), изысканнейший ритуал застолий, переданный по традиции семье дочери – Рабкиным Наташе и Борису… Потрясает широта воззрений Мехти Хасаевича, аристократизм его духа, который – вот уж истинно княжеское происхождение! – не исчезает ни при какой социальной системе, питая гены последующих поколений. Показывает мне фотографии генерала Хасая, первые издания стихов Натеван, вижу, как Мехти Хасаевич любуется арабской вязью, а однажды стал вычерчивать арабскими буквами имя и фамилию, попросил меня, чтобы запечатлели их на могильной его плите в арабском написании. А вот книга Александра Дюма о его путешествии на Кавказ в 1859 году, в которой рассказывает о встрече в Баку с «татарским князем Хасаем Уцмиевым», тогда – полковником, его женой Хуршид Бану, «татарской княгиней, дочерью последнего карабахского хана», их детьми: Девочка трёх или четырёх лет с удивлением смотрела на нас большими чёрными глазами; мальчик пяти-шести лет на всякий случай и по инстинкту держался за рукоятку своего кинжала… Это настоящий кинжал, обоюдоострый, который мать-француженка никогда не оставила бы в руках своего ребёнка, а у матерей-татарок он считается первой детской игрушкой… Князь Хасай Уцмиев был мужчина лет тридцати пяти, красивый, важный, говорящий по-французски как истый парижанин, одетый в прекрасный чёрный костюм, шитый золотом, в грузинской остроконечной шапке; на боку висел кинжал с рукояткой из слоновой кости и в вызолоченных ножнах. Признаюсь, я содрогнулся, услышав это чистое и безукоризненное французское произношение. Ещё бы: выпускник военной академии во Франции! Последние годы жизни прадеда окутаны туманом: обвинённый якобы в антицарском заговоре (факту в советские годы придавалась, естественно, революционная окраска), он покончил жизнь самоубийством. А что и как было – не знали ни я, ни он. Стал вести по его подсказке поиски и в результате стал обладателем уникальной фотокопии его следственного дела, страницы от руки трудно читаемы, в расшифровке существенную помощь оказал Мехти Уцмиев, и нам открылись подробности трагической смерти генерала (это стало главой в четвёртом издании «Фатального…»: «Кое-что из архива Ахундова, или Неосуществлённый замысел»). Царское самодержавие после подавления длившегося четверть века (с 1834 по 1859) движения Шамиля прибегло, дабы обезопаситься в будущем от подобного, к так называемой переселенческой политике, что породило термин «мухаджирство», «эмигрантство». Суть политики (один из разработчиков – небезызвестный Михаил Тариелевич Лорис-Меликов) сводилась к простому способу выживания неугодных: искусственно создавались невыносимые условия для жизни непокорных инородцев путём выселения, к примеру, низинных – в горы, а горцев – на низины, и тем возбуждалось недовольство, вынуждавшее их покинуть свои земли, и на этих территориях селились собственные верноподданные. «Ах, вы не хотите жить в России? Ах, вы желаете переселиться к единоверцам туркам?! Что ж, скатертью дорога, чинить помех не будем!..» Недовольных (потенциальных бунтовщиков) во исполнение обещания в организованном порядке отправляли в Турцию. Два переселенческих потока с Кавказа возглавил Хасай Уцмиев. Царская власть полагала, что горцы, вынужденно покидающие свои земли, не ослушаются знатного сородича, и с турками он тоже найдёт общий язык. Казалось бы, он достойно – и дважды! – справился со сложным заданием, честно служа империи. Но, предпринимая этот массовый исход горцев, Россия преследовала собственные интересы, о которых, очевидно, Уцмиев знал «от сих до сих», а суть оставалась сокрытой: Россия не только желала избавиться от беспокойных племён, но и пыталась наполнить взрывчатым элементом чрево враждебной страны, ослабив тем самым Турцию, – рано или поздно, полагали в России, свободолюбивые горцы не стерпят гнёта турок, поднимутся на борьбу, подтачивая изнутри врага. Но и Оттоманская империя преследовала свои цели – принимая недовольные племена, думала как о спасении единоверцев, так и об обеспечении собственной безопасности, селила их вдоль границы с тем, чтобы – если Россия нападёт – они первыми приняли удар, в ожесточении сражались. И тут возникло недоверие к генералу, де, он заодно с единоверцами, коль скоро не смог противостоять коварству турок, нарушил замысел российских властей с заселением горцами внутренних земель Турции: верный служака вдруг стал опальным, что до глубины души оскорбило его, человека гордого, не стерпел обиды – реакция на явную несправедливость была вызывающая: если мне нет доверия, я тоже переселяюсь! Боже, какой переполох в канцелярии: известный генерал – и в Турцию?! Посыпались предложения: разжаловать! арестовать! выслать в Сибирь! объявить сумасшедшим! Но как на это отреагируют дагестанцы? Решили установить слежку, изолировав генерала, тянуть и обнадёживать, де, обсуждают детали, и созрело решение: вывезти в Воронеж «в сопровождении урядника 14-го конного полка Кубанского казачьего войска Максима Дементьева»; по пути Уцмиев, поняв, что обманут, «выстрелил себе в лоб», о чём телеграфировали из Ставрополя Лорис-Меликову. Рана, вызванная пулей, привела к смерти: «Воронежский Губернатор телеграфирует, что князь Хасай Уцмиев после продолжительной болезни умер 21 апреля [1867 г.]». В последние годы жизни Мехти Хасаевич составлял родословную, получилась разветвлённая, точно большая географическая карта. Здесь можно узреть ветвь, ведущую к шахским иранским родам, в частности, вычитать имя бабушки по материнской линии – принцессы Дильшад-ага Рзакули-Мирза кызы Каджар, выпускницы Смольного института, стала одной из фрейлин Марии Фёдоровны, жены Александра II. Родословную выпросил для Института литературы АН Азербайджана наш учёный Ариф Гаджиев, ныне покойный, и где она теперь, эта родословная, сказать трудно. Темой наших бесед были и события, происходившие при жизни Мехти Уцмиева: мировая война, революция, независимые государства Закавказья, к которым он относился скептически, войны из-за территорий между ними в 1919-1920, вторжение 11 Красной Армии на южный Кавказ… - всё это легло в основу романа «Доктор N», чьего выхода отдельной книгой он не дождался, но успел получить журнальную публикацию с посвящением: «Князю Мехти Хасаевичу Уцмиеву», прочтя которое, помню, поморщился: «Князь?! К чему это?.. Неуместно величание меня «князь» и «хан». Титулы приобретались признанием народа, теперь, когда народ упразднил эти титулы, такие обращения возможны либо в шутку, либо в насмешку»; дайджест «Доктора N» - «Нескончаемое письмо» тоже посвятил его памяти, указав: московский архитектор, ибо по его проектам построено было много зданий, в их длинном ряду Институт нефтехимии в Уфе, пешеходный вокзальный мост в Тбилиси, жилой квартал в посёлке Монтино под Баку, вокзальная станция в городе Каспи, дом культуры в санаторном городе Цхалтубо… – сам с семьёй жил в спроектированном им большом московском доме, – добротном, удобном по планировке, на улице Гиляровского; процитировал мне как-то его строки: В России две напасти: Внизу – власть тьмы, а наверху – тьма власти, и добавил, что это не только в России, а где ещё – умолчал.
Мне не удалось познакомить Уцмиева и Шарифа – сблизился незадолго до смерти Шарифа, но мне почему-то кажется, что они не сошлись бы, точно люди разных эпох по мироощущению и образу жизни: Мехти Хасаевич, как мне казалось, – замкнут, круг его ограничен семьёй и близкими; принял революцию, отвергнув при этом вождей; Азиз Алиевич – общественно активен, считал, что революция подавила демократию, но при этом оставался сталинистом и антихрущёвцем; первый – бескорыстен и – не без скепсиса, второй – тщеславен, обидчив, раним; первый из знатного рода дагестанско-карабахских князей и ханов, но в нём сочетались изысканный аристократизм без чванства, простота без панибратства, он даже чуждался громких титулов, а второй… – может, различия хоть как-то выявились из портретов, но более всего интересуют меня сходства – оба, как я, были людьми русской культуры, привязанные, однако, к своей; интернационалисты в выборе жён (характеристика не оценочная, лишь констатация): Азиз Алиевич был женат на армянке Марии Аркадьевне, Мехти Хасаевич – на еврейке Доре Самойловне, и обе жёны были гостеприимны, отзывчивы, отменные советчицы мужьям; обоих аксакалов, Азиза Шарифа и Мехти Уцмиева, объединило и то, что были похоронены по мусульманскому обряду: гражданской панихиде в МГУ предшествовала молитва моллы (и увезли Азиза Шарифа хоронить на родину), а Мехти Хасаевич, прося похоронить на московском мусульманском кладбище, даже составил – о чём было – надпись на могильном камне арабскими буквами.
Предпринимательский ажиотаж
нас захватил с Еленой в 90-е, точнее – психоз (обесценился рубль, гонораров никаких, а на пенсию + профессорскую мою з/п в двух вузах не прожить): загорелись идей организовать, благо позволял многокомнатный двухэтажный дом в Переделкино (на постройку перед развалом страны ушли все мои гонорары, иначе б сгорели в галопирующей инфляции), нечто вроде литературного семинара в Городке писателей для зарубежных русистов – преподавателей, аспирантов, студентов, сроком на неделю, два раза в год, осенне-зимний и весенне-летний; рассчитан на пять-семь человек; продумали также финансово-бытовую сторону затеи: проживание в Переделкино с питанием, «в случае необходимости берём на себя получение визы»; разработали программу – формы и виды занятий: курсы по русской литературе (теория, методика изучения, новые явления с акцентом на творчество «русских нерусских» писателей: Ф. Искандер, О. Сулейменов, Б. Окуджава, Т. Зульфикаров, М. и Р. Ибрагимбековы, Г. Айги, Т. Пулатов); практические занятия по русскому языку; проведение «Круглых столов», дискуссий, встреч с писателями, литературоведами, критиками… – можно было особо не искать их, ещё не развалился Дом творчества, да и немало известных писателей живёт в арендных домах Литфонда; литературные экскурсии – и не только по Переделкино. С твёрдой убеждённостью, что наши с Еленой связи + знания + опыт заработают, послали программу Антонине Буис – она была в перестройку важным чином в Фонде Сороса, с просьбой откликнуться; Леону Робелю с надеждой, что, может быть, он нам что подскажет? Леон тут же выразил готовность «с удовольствием» подключиться к работе семинара», обещал отправить ксерокопии программы «к коллегам здесь», в Великобританию, Швейцарию, Германию, Швецию, Италию, США. Скажу, забегая вперёд: ничего из наших прожектов не получилось, тут виноваты, прежде всего, мы, горе-бизнесмены, лишённые какой бы то ни было предпринимательской жилки, к тому же лишь этими двумя обращениями – к Робелю и Буис – и ограничились; обнаружил недавно в бумагах наше письмо Антонине Буис в США – заклеено, но не отправлено, кажется, Гасан, который продолжал общаться с нею, сказал, что адрес у нас старый, обещал сообщить новый, заметив при этом, что затея наша бесперспективная, желал, очевидно, уберечь от неизбежных нервотрёпок, зная мой непрактицизм + впечатлительность + бестолковость, много ещё чего из +ов. Была ещё одна, может, самая главная причина – погиб в автокатастрофе наш друг Николай Грудинов: будучи истинным бизнесменом, он обещал нашу затею поддержать финансово.
Кавказские – и не только – страсти
Время хаоса… Эйфорический парад суверенизаций, цепная реакция краха всего и вся, кровопролития, этновойны. Нонсенс: независимость, или суверенитет России (даже праздник такой учреждён) от… чего-кого? «Малого» русского государства РФ от «большого» русского государства СССР – так, что ли? Кавказ… Скопление наречий и вер: на пятачке площади мирно уживаются мечеть, церковь, в том числе протестантская, и синагога, сохранился и действует даже храм языческий – огнепоклонников. А в горах: за уступом скалы – аул с единственно-неповторимым языком, ни на какой не похожим, а за хребтом, на той стороне холма, – племя другое, с иной, тоже уникальной речью. О множественности на земле языков немало легенд. Наряду с библейским, что прежде был один язык, а разноязычие – наказание, ниспосланное людям за вавилонскую дерзость, дабы не могли договориться, возомнив, что способны возвыситься до Бога, на Кавказе есть и своё объяснение изобильной здесь скученности языков: раздарив, как Сеятель, языки расплодившимся после потопа народам, Он ощутил вдруг усталость (или куда спешил?) и, оказавшись над Кавказом, высыпал оставшиеся в путевой суме языки. Легенда в недавнем прошлом воспринималась как оригинальный образ, метафора, ныне – символ новой реальности. Может, дело не в усталости, спешке (куда Богу спешить?), а хотел, пущусь в наивные рассуждения, испытать кавказцев: А ну как себя поведёте, человеки, коим дарована Мною жизнь, и представлено, право выбора пути в ситуации, Он выразился по-учёному, смешанного многоязычия? Время разорвало привычные узы, раскололось единое над всеми небо, не суждено узнать, оборвётся ли дорога пропастью, уготованной стихией, или упрётся в рукотворный тупик, чтоб начать сначала. Некогда в доисторическое прошлое вспахана была на Кавказе земля, которая держится на медноногих огнедышащих быках, и засеяна зубами дракона – может, буйно произросли посевы, дав всходы гнева и злобы? Провалы памяти, утрачено, что есть истина и благо, а что – ложь и зло. И не осталось никого, кто бы следовал завету: не облекайте истину ложью, чтобы скрыть истину, в то время, как вы её знаете, но упрямитесь! Ощущение, что глухой слышит, но с умыслом притворяется, немой таит речь, чтоб застать врасплох, а слепой зрит, симулируя незрячесть. Неотвязна мысль о Ноевом ковчеге – пристал к вершине горы, выступившей из пучины всемирного потопа и спасся, дав новую жизнь сгинувшему человечеству. Но если ковчег поднять кормой вверх и устремить к небу, не получится ли (это из стихов Helen) Вавилонская башня? Да, но при этом… переизданы «Семейные тайны», восстановил убранное цензурой о разложении высших эшелонов власти в лице «местных» комвождей (годы ещё советские!). В разгаре работа над романом «Доктор N», в котором события начала ХХ века почти один к одному повторились в конце его. И не иллюстрацию ли вечных проблем подсовывает постоянно жизнь? Уже во власти нового замысла – ежедневно общаюсь с пророком Мухаммедом, а через него – с Богом, и эти исламские проблемы волнуют, оказывается, не только меня одного... |
Комментарии |
Комментарии не найдены ... Добавить комментарий:
|
 Чингиз Гасан оглы Гусейнов (род. 1929, Баку) — азербайджанский и российский писатель, литературовед, доктор филологических наук, профессор, академик Академии информатизации, заслуженный деятель искусств Азербайджана. Чингиз Гусейнов окончил филологический факультет МГУ в 1952 году и аспирантуру Института востоковедения АН СССР в 1956 году.
Чингиз Гасан оглы Гусейнов (род. 1929, Баку) — азербайджанский и российский писатель, литературовед, доктор филологических наук, профессор, академик Академии информатизации, заслуженный деятель искусств Азербайджана. Чингиз Гусейнов окончил филологический факультет МГУ в 1952 году и аспирантуру Института востоковедения АН СССР в 1956 году. Вступление
Вступление